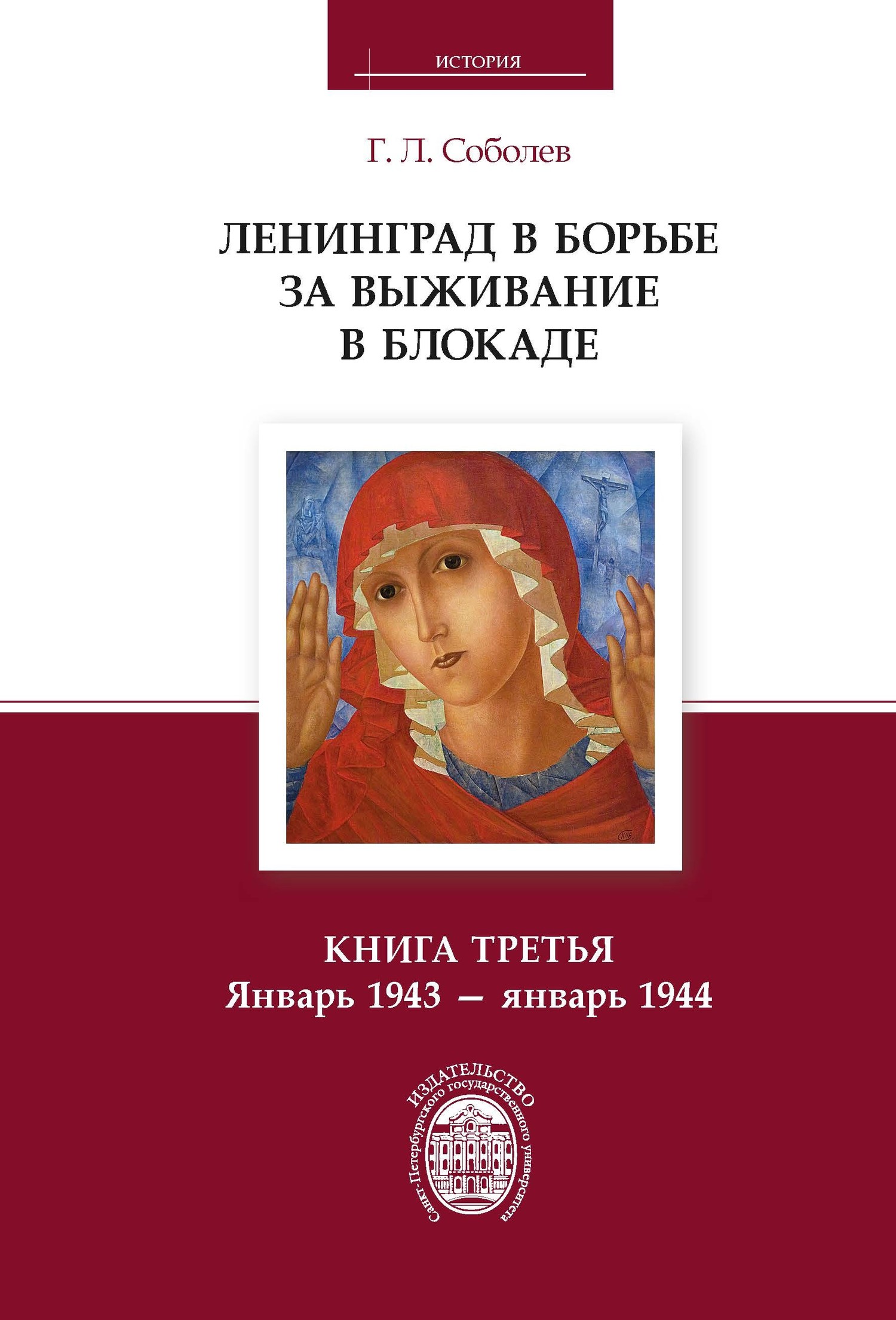Шрифт:
Закладка:
Старик замолчал и тяжело вздохнул.
— А ваша почетная фамилия — Караим?
— Нет, бойдакъ[19]. Караимы — это народ; его называли святым народом. У нас особая вера, которую предки считали самой верной. Мы не евреи, не татары, не литвины и не турки. Доводилось уживаться с ними со всеми. Мы одни чеканили монеты для хана всего Крыма, наших сородичей отбирал в телохранители Великий князь Литвы. Но отстаивать себя всегда надо было самим.
— Я понял, — кивнул Борис.
— Ты мало что в этом понял, но слушай дальше. Я ушел работать еще совсем юнцом. Был чересчур худым, но очень настырным. И быстро научился прикрывать глаза своему страху. Потом пришла война, и я решил, что ни к чему от нее прятаться. До деда мне далеко, но свое дело я знал. Бывало, каждую ночь ходил за «языком», жаль, что донести их живыми не всегда удавалось. За одного, которого посчитали особенно ценным, представили к ордену и сразу выдали трофей — его «вальтер». Два раза меня крепко задевало, но вернулся обратно с руками, с ногами и со всем, что нужно мужчине. Как раз тогда решили заново строить город. Вот этот дом уцелел — отделался несколькими шрамами, как и я. — Самуил приподнял руку и провел пальцами вдоль стены, как бы проверяя. — А мы стали строить назло войне. В это время мне встретилась моя женщина, та самая, в чьи глаза не страшно смотреться до самой старости. И она что-то такое разглядела во мне. Мужчин в поре было тогда немного, но к ней уже сватались и наши, и русские. Нам тогда казалось, что мы ждали очень долго, а сами обвенчались по старому обычаю уже через месяц.
— Знаешь, — отпив воды из кружки, продолжил Самуил, — я не рвался в начальники, однако меня ценили. Звали в другие города. Я уезжал на месяцы. Возвращался. Бывало, я вдруг дико ревновал ее там, в сотнях километров. Я звонил самым близким и доверенным, от каждого требовал присмотреть за ней и сразу сообщить мне, но никто так и не узнал про нее ничего плохого. А к моим приездам у нас рождались дочери. Пять дочерей. По их повадкам я вновь убеждался, что все они — мои. Старшей уже нет. Так бывает редко, но ее я любил и баловал больше всех. Мы дали ей нежное имя — произносишь, и будто цветок распускается.
— А как ее звали?
— Айтолу. Это значит «полная луна». Она родилась в полнолуние.
— Можно влюбиться в одно только имя.
— В нее было за что влюбиться. Святая правда. И говорю так не потому, что я отец. После нее сильно ждал сына. Достойного правнука моему деду. А вместо него — новая дочь. Я очень переживал. Ждал и молился, подолгу и горячо, — и сын очень поздно, но должен был у нас появиться.
Я понял сразу, что в этот благословенный раз будет ОН. Мне казалось, что это видно уже по ее животу. Другие сомневались, но у них-то не рождалось столько дочерей. Жена рассказывала счастливым шепотом, что он бил изнутри не часто, но сильно и требовательно. По-мужски. Я купил ему колыбель и повесил в отдельной, его комнате. Он точно должен был вырасти красавцем и настоящим батыром.
Только сначала родиться, задышать и заговорить.
Я все и всюду успевал. Мне казалось, что кто-то скинул с меня лет двадцать, и я теперь могу взлететь без крыльев на одной своей будущей радости.
И вот в один из дней на последнем месяце ожидания я вернулся из сада перед самой жарой и заглянул с порога в его комнату. Айтолу стояла там — не знаю, что на нее вдруг нашло, — и качала колыбель со своей старой куклой, напевая ей. Что-то шептала от себя и снова напевала. Она стояла спиной и меня не видела. А об этом есть дурная примета. Глупое суеверие. По нему выходит, что младенцу не выжить. Я вспомнил об этом и едва не задохнулся. Язык не слушался, и я ничего не мог ей сказать. Она учуяла взгляд. И мой взгляд был такой, что она — совсем уже не маленькая девочка — прижала к себе ту проклятую куклу, выскочила оттуда и не появлялась в доме до самой ночи.
Роды были долгими. Ребенок оказался слишком большим. Пять с половиной килограммов, как сказала потом сестра. Нужно было решаться, помочь ему и сделать то, что они называют «кесарево». Но молодой врач так ничего и не сделал. Только успокаивал ее и ждал. Рассчитывал, что сойдет и так. У роженицы ведь были дети и все как-то выбирались сами.
А потом мой сын задохнулся…
Сказав это, Самуил сам задышал отрывисто, приподнялся со стула и снова сел.
— В комнату… там, возле головы… справа, белая пачка…
Борис стремительно затопал по кухне и коридору и вернулся с таблетками.
Старик дошел бы туда и сам, если бы не Темный угол. Хорошо, что есть тот, кто о нем еще не знает.
* * *
…— Как похоронил? Его принесли в деревянном гробике. Я сам копал могилу. Единственный раз после войны. Могильщики были не в обиде на меня. Яму длиной в неполный метр рыть дольше и труднее всего. Я закончил поздно вечером. А потом, на что-то надеясь, просидел на кладбище всю ночь и вернулся утром.
Жена быстро встала на ноги, но очень стыдилась себя в следующие дни. А у меня не получалось жить со всем этим. Я продал по хорошей цене вещи, заведомо ненужные моим женщинам: мотоцикл, мотор для лодки, парадные пиджаки. Потом снял все сбережения с книжки, добавил к ним деньги от этих продаж, завернул в пакет и положил дома за известным жене кирпичом.
А на следующий вечер я пошел к врачу в гости. Принес с собой жареного барана и лучшего вина.
— Сегодня у нас будет Курбан[20], — сказал я, — последний день траура.
У него нашлось что-то вроде большого подноса, и мы сели вместе возле его дома. Врач знал свою вину. Сначала бормотал что-то невнятное, а потом перестал. Сидел, опустив голову.
— Ешь.
Помню, как судорожно он жевал, испуганно выглядывая из-за куска в своей руке. Казалось, от него даже пахло каким-то особым предсмертным потом.
— И пей.
Его глаза выпучились. Было видно, как входит в него каждый глоток, готовый отрыгнуться. Добра от меня он точно не ждал.
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)